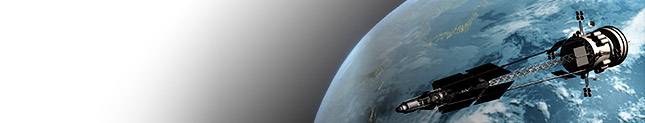«Это можно было бы предотвратить»

Глава ИБРАЭ Леонид Большов о различиях между Фукусимой и Чернобылем
Четверть века назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. За полтора месяца до этой круглой даты «мирный атом» едва опять не вышел из-под контроля на японской атомной станции «Фукусима-1», уровень этой аварии по шкале INES приравняли к Чернобылю. О сходствах и различиях двух аварий и о том, какие задачи теперь придется решать атомной отрасли, “Ъ” рассказал директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики, член-корреспондент РАН ЛЕОНИД БОЛЬШОВ.
— Как бы вы сейчас, через 25 лет после событий, оценили эффективность работ по ликвидации аварии на ЧАЭС?
— Думаю, что на четыре. Были ошибки. Например, не сразу была эвакуирована 30-километровая зона вокруг АЭС. Нужно было сразу проводить йодную профилактику не только в Припяти, но и на соседних территориях. Это могло бы предотвратить заболевания раком щитовидной железы из-за выбросов радиоактивного йода со станции.
— Каковы долгосрочные медицинские последствия Чернобыля?
— Диагноз «острая лучевая болезнь» был поставлен 134 людям. Из них в первые 4 месяца умерло 28 человек, остальных вылечили. Среди населения ни одного случая острой лучевой болезни не зафиксировано. Тотальные медицинские обследования на загрязненных территориях выявили увеличение частоты раков щитовидной железы — до 40% из 748 случаев — у тех, кто был детьми на время аварии. Было некоторое увеличение частоты лейкемии у ликвидаторов. Это редкая болезнь, и ее легко над общим фоном заболеваемости обнаружить. Еще некоторое количество раков щитовидной железы, в пределах 20 из 115, у ликвидаторов медики связывают с радиацией. В общую смертность это никакого вклада не внесло. Смертность ликвидаторов аварии на ЧАЭС находится на том же уровне, что и у обычного взрослого населения.
За исключением раков щитовидной железы у детей (подавляющее большинство их вылечено), здоровье населения радиация не затронула. Так что если посмотреть на медицинские последствия Чернобыля, они весьма и весьма ограниченны. В этом отношении это никакая не катастрофа, особенно если сравнить с Бхопалом (авария на химическом заводе в Индии в декабре 1984 года с выбросом ядовитого газа, погибло до 18 тыс. человек.— “Ъ”) или с недавними авариями на шахте «Распадская» и на Саяно-Шушенской ГЭС.
Отношение к таким событиям не определяется только количеством жертв. Есть два фактора. Первое: еще в 1991 году «чернобыльский закон» объявил 8 млн человек, в том числе 2 млн человек в России, «отверженными и пораженными». В России это территория в 60 тыс. кв. км, загрязненных выше уровня 1 кюри на 1 кв. км. Рядом со станцией, в Брянской области, были районы, где и побольше было, но основная площадь была загрязнена примерно на этом уровне. В Европе за пределами СССР после Чернобыля до этого уровня оказалось загрязнено почти 70 тыс. кв. км. Но ни один из этих километров не был выведен в разряд «пострадавших», и ни один человек не был обозначен «жертвой Чернобыля». Вопрос: мы не понимали, что на этой огромной территории от радиации никто не пострадает? Понимали. Наши ведущие специалисты говорили, что не надо этого делать. Ученые бились за то, чтобы концепции, законы соответствовали здравому смыслу.
— Зачем же тогда лоббировали закон о включении территории с уровнем свыше 1 кюри в список «пострадавших от Чернобыля»?
— Страна находилась на переломе. Возникали новые политики, партии. Защита чернобыльцев — дело благородное. А на примитивном уровне: «Наши люди пострадали, это коммунисты все загрязнили, понятно же, что в них все зло, в коммунистах, скрывали, ничего нам не говорили, а теперь мы знаем, и вот уж мы защитим народ. А как защитим, сами разберемся без экспертов из старой жизни».
То есть вторая сторона — это неграмотность. Неграмотному человеку можно что угодно втолковать. Речь не только о политиках, которые в то время имели отношение к принятию решений. Многие из них были искренне убеждены в правом деле. Через десять лет после Чернобыля мы начали рассказывать об этой ситуации одному из руководителей-атомщиков, очень уважаемому в отрасли человеку. Он ногами затопал: «Да вы что! Я там был, сам знаю, сколько народа там пострадало, как вы осмеливаетесь такое говорить!» Так это десять лет спустя, а еще за пять лет до этого было то же самое, только страстей было гораздо больше.
Но то, что было в Чернобыле сделано на пятерку,— это организация государственной системы ликвидации последствий аварии. Была моментально создана правительственная комиссия во главе с премьером и еще оперативные группы на нескольких уровнях: политбюро ЦК КПСС, республиканское правительство в Белоруссии, на Украине, штабы ведомств, профессиональных организаций. Обсуждались и вырабатывались решения, которые потом были обязательны для исполнения. Чего стоит создание УС-605, той самой строительной организации Минсредмаша, которая строила саркофаг над четвертым блоком и выполнила еще очень многие работы в зоне. Тогда строители в министерстве были, наверное, самые сильные в стране.
— Можно сравнить организацию работ во время ликвидации аварии в Чернобыле и в Японии после 11 марта? Вы говорите, что в СССР организация этой системы была на пятерку. Мне кажется, что у японцев (по крайней мере в первые дни) вообще не было никакой системы.
— Беда была в том, что в первые дни, практически до 18 марта, когда премьер Японии взялся руководить процессом, энергокомпания TEPCO (владелец «Фукусимы-1») не вполне оценила масштаб бедствия и старалась сохранить лицо, мол, все в порядке, сейчас со всем разберемся сами. Но лишь на уровне премьера начались реальные действия: на площадке появились пожарные, полицейские, военные. Сами работники АЭС, оставшиеся на станции,— молодцы, мы должны отдать им дань уважения и признательности за то, что они вели эту трудную работу в очень непростых условиях. Но то, что на уровне государства не сработали сразу, очевидно.
Если говорить про острую фазу аварии на «Фукусиме-1», то японцы молодцы, что заранее эвакуировали народ из 20-километровой зоны вокруг АЭС еще до того, как что-то было выброшено. Но получилось так, что в первые четыре дня ветер дул в сторону Тихого океана, поэтому все, что было выброшено из первого и третьего блока, ушло туда. Когда 15 марта пошел выброс из второго энергоблока, начался пожар в бассейне выдержки на четвертом блоке, ветер уже менялся — западный, северо-восточный, юго-восточный. Но к этому времени всех эвакуировали. Надо сказать, что по части загрязнения территории японцам повезло. У них загрязнена площадка АЭС и есть пятно к северо-западу между границами 20- и 30-километровой зоны.
На самой площадке явно есть прогресс: заработало штатное охлаждение реакторов, закачивается вода в бассейны выдержки, научились откачивать «грязную» воду, собирают установки по очистке этой воды, занимаются пылеподавлением. Это известные и правильные меры. Можно говорить, что это было сделано с опозданием. Если бы в те самые первые часы, в первый день более активно включилась правительственная система, которая пригнала пожарные машины, если бы сразу начали заливать реакторы, притащили бы новые дизель-генераторы и запустили электричество, то мы бы вообще не узнали про то, что есть такая «Фукусима». Время, когда разогревается активная зона реактора и испаряется вода, было пропущено.
— Но раз время было пропущено, значит, можно говорить о том, что в каком-то смысле здесь сработал человеческий фактор?
— Думаю, что здесь скорее фактор системы. Я еще в 1992 году был в Японии на разных объектах, в том числе на одной из АЭС, где нам показали тренажер для операторов. Мы спрашивали: «Для операторов моделируются тяжелые аварии?» — «Нет,— говорят,— у нас хорошая станция, а для общественности очень плохо, если мы показываем возможность тяжелых аварий». Мы сказали, что у нас подход другой, но не были услышаны. И вот это отношение к тяжелым авариям как к чему-то весьма и весьма гипотетическому, отсутствие готовности к нестандартным ситуациям и дало себя знать. Кстати, это отношение, это деление аварий на проектные и запроектные после фукусимской аварии, скорее всего, подвергнется ревизии не только в Японии. Даже маловероятные аварии, если у них могут быть серьезные последствия, должны быть рассмотрены и изучены.
— Чем отличаются проектные и запроектные аварии?
— После проектных аварий атомная станция должна выйти полностью сохранившейся. При запроектной аварии на блоке происходят разрушения в реакторе и к работе блок не возвращается. Например, если расплавилась часть активной зоны, это уже запроектная авария, ее не должно быть.
Сейчас отношение к тяжелым авариям зачастую такое — вероятность их возникновения составляет 10 в минус большой степени, поэтому такого на практике быть не может. Но придется и к ним относиться всерьез. Необязательно везде принимать какие-то экстраординарные меры, но надо этот вопрос для каждой станции до конца проработать. Предположим, что отказало внешнее электропитание, дизель-генераторы, которые должны в этом случае брать на себя нагрузку, не заработали или выведены из строя, что будет со станцией? И сколько есть времени для того, чтобы принять какие-то меры? Просто надо иметь в запасе еще дизель-генераторы, газовую турбину или что-то другое, но чтобы защитными системами либо какими-то заранее разработанными мерами предотвратить наихудший вариант развития в любом случае.
В Армении в 1988 году было землетрясение с магнитудой больше семи (афтершоки в эпицентре до десяти баллов). Спитак был стерт с лица земли. На площадке Армянской АЭС сила землетрясения больше шести баллов, столько же, сколько в Фукусиме. И ничего, АЭС выдержала. Кстати, на «Фукусиме-1» тоже станция осталась в рабочем состоянии после землетрясения, к чести атомной энергетики. А вот цунами свое злое дело сделало, вывело из строя дизель-генераторы. Кстати, на площадке АЭС «Онагава», к северу от «Фукусимы-1», было то же цунами и землетрясение, но станция прошла через это.
— Это такая же старая станция, как и «Фукусима-1»?
— Да, те же старые блоки. Но элементарная вещь — дизель-генератор на «Онагаве» был не внизу, как на «Фукусиме-1», а вверху, и его не залило. И поэтому там могли поддерживать холодный останов реакторов, охлаждение, съем остаточного тепла. И то, что на одной конкретной станции это не было учтено,— это недостаток проекта и аварийного планирования.
— А вы не боитесь, что мы попадаем в замкнутый круг? Очередная авария, сразу начинаются разговоры об усилении мер безопасности. После Чернобыля появились системы пассивной защиты реактора, которые действуют без команд оператора. Теперь опять авария на АЭС, и опять появятся дополнительные меры, то же автономное энергоснабжение, которое должно по несколько раз страховать само себя. Все это поднимает стоимость АЭС. Мы можем бесконечно увеличивать количество защитных мер, но в какой-то момент атомная энергетика может перестать быть рентабельной.
— Конечно, если цена безопасности будет слишком высока, то атомная энергетика будет невозможна. Но не всегда до конца понимается, что безопасность — это императив, не должно быть рассуждений на тему «чуть больше безопасности или чуть меньше». И с этой точки зрения опыт, накопленный за 60 лет атомной энергетикой, совсем не такой плохой, если сравнивать, например, с угольной отраслью или с гидроэнергетикой (например, с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС). Атомная энергетика в нормальных условиях — очень хорошая технология, но тяжелые аварии неприемлемы. Точка.
Обеспечивать отсутствие тяжелых аварий можно двумя способами. Один способ состоит в наращивании количества систем безопасности, это, например, запасные генераторы. Другой способ — в переходе на станции нового поколения, на которых такие аварии невозможны. У нас действует федеральная программа до 2020 года, направленная на это. В мире также идет аналогичная работа. Но в любом случае нужна культура безопасности на всех стадиях — от проектирования и выбора площадки для АЭС до эксплуатации. Есть ведь и старые станции в благополучном состоянии, поэтому решение закрыть все АЭС определенного возраста, которые сейчас обсуждаются в некоторых странах, неоправданно, это политика. Вот, например, эмоциональное поведение после чернобыльской аварии и превратило серьезную техногенную аварию в катастрофу. Если была бы другая обстановка в СССР, если бы все было спокойно, то кого необходимо, переселили бы, помогли, но паники и волнений никаких бы не было. Например, в 1957 году на предприятии «Маяк» рванула емкость с радиоактивными отходами. И никто про это не знал, информация об этом появилась спустя лет сорок.
Другое дело, что в сокрытии информации СССР далеко не образец для подражания. Но уже в зрелом демократическом обществе, где есть уважение к экспертам, нужно бороться с эмоциональными решениями.
— Вы уверены, что даже в зрелом демократическом обществе достаточно уважения к экспертам?
— Я много работаю с Западом. И при всех сложностях и особенностях уважения к экспертному мнению замечал больше.
— Но после аварии на «Фукусиме-1» эксперты напоминали, что МАГАТЭ несколько лет назад выдавала отчеты о том, что мер безопасности на этой АЭС недостаточно, что надо их дополнить. Было ли к ним внимание?
— Если говорить именно про то, что наблюдалось в Японии, то
это системные ошибки, о чем я уже говорил. Система, которая не опирается на
экспертное мнение, часто принимает дурацкие решения. Мы видим, что японцы взяли
проект АЭС General Electric, поставили его с минимальной переделкой, мы видим
поведение TEPCO, как они скрывали всякие недостатки, которые у них нашла
инспекция. Недавно в МАГАТЭ был подробный доклад японского профессора, в
котором представлено, какие землетрясения и цунами были на месте «Фукусимы-1»
ранее. Высота волны достигала
— Это вдвое выше того цунами, которое было на «Фукусиме-1»?
— Да. И не учесть этого при размещении было неправильно. Либо не ставьте в этом месте, либо защищайте станцию. В России, как известно, в сейсмоопасных зонах просто запрещено строить.
— Но Япония вся сейсмоопасна, архипелаг стоит на геологических разломах. Мы придем к тому, что надо закрывать всю атомную энергетику в сейсмоопасных зонах?
— Каждая страна этот вопрос для себя решает по-своему. В нашей стране сейсмоопасные зоны не в каждой деревне, мы себе можем позволить отказаться от строительства АЭС в сейсмоопасных зонах. Но вот в США, в Калифорнии нормально работает АЭС Diablo Canyon, рассчитанная на десятибалльное землетрясение. И в Японии все станции нормально прошли землетрясения. Дело не в землетрясении как таковом, а в цунами: строить или не строить станцию там, где бывают волны высотой с семи-восьмиэтажный дом.
Еще хотелось бы сказать, что надо учить уроки. Вот после Three Mile Island (авария на АЭС в США в 1979 году, когда потеря охлаждения активной зоны реактора привела к расплавлению топлива.— “Ъ”) урока мы не выучили, налетели на Чернобыль. После ЧАЭС мы выучили свои уроки, а японцы, как видно, не выучили и налетели. Нужно на чужих ошибках учиться. А точка зрения, что это у них там все плохо, а у нас все хорошо, очень опасна.
— Пострадавшие реакторы «Фукусимы-1» были построены до аварии на ЧАЭС. Что надо было сделать на «Фукусиме-1», чтобы можно было говорить, что уроки Чернобыля выучены? Только переставить резервное энергоснабжение на более высокую площадку, чтобы ее не заливало волной?
— Первая — самая дешевая и самая элементарная мера. Мера более сложная — взять и посмотреть, какие еще нужны меры защиты от цунами. В реакторах этого типа есть одна неприятность: бассейны выдержки отработанного топлива находятся вне контейнмента, наверху под крышей. А это легкое здание, которое разлетелось при взрыве 20–30 кг водорода (на «Фукусиме-1» взрывался газ, который при повышении давления стравливался из оболочки реактора в корпус энергоблока.— “Ъ”). Поэтому при серьезном отношении к тому, что тяжелые аварии все же могут быть, это можно было бы предотвратить. Можно сказать, что задним умом все мы сильны, и с этим я тоже согласен, но все равно рано или поздно уроки надо учить. И не только японцам, не только американцам, но и нам. И я еще раз повторю, что нельзя принимать решения в эмоциональном состоянии. Раз в Японии старые реакторы показали себя плохо, их все нужно позакрывать — это не разговор. Давайте проведем детальный анализ и после этого уже будем выносить суждения.
— Сейчас уже понятно, что «Фукусиму-1» теперь закроют.
— Да.
— Не исключено, что закроют не только «Фукусиму-1», но и «Фукусиму-2»?
— Не знаю. На «Фукусиме-2» по фону и по ситуации все нормально, мы это регулярно отслеживаем.
— Но предположим, что по результатам рассмотрения аварии на «Фукусиме-1», после пересмотра мер безопасности МАГАТЭ и ведущие атомные державы скажут: на этих реакторах второго поколения обеспечивать безопасность себе дороже. Поэтому, мол, давайте не будем продлевать им сроки работы и в течение десяти лет эти старые блоки повыведем. Массовый вывод старых энергоблоков — вероятный сценарий?
— Этот сценарий исключать нельзя. Но можно вспомнить, как после Чернобыля весь Запад навалился на нас с призывом: «Закрыть все советские реакторы!» Нам пришлось после этого лет десять убеждать, доказывать, что наши станции ничем не хуже, чем западные АЭС такого же поколения. У нас были проведены очень серьезные комплексные программы по повышению безопасности: не только вводили новое оборудование, не только совершенствовали конструкцию систем безопасности, систем управления и защиты, но и поставили на каждой АЭС тренажер, внедрили культуру безопасности, которая до этого считалась «буржуазным предрассудком». И через некоторое время Запад убедился в том, что оснований закрывать АЭС в России нет.
— Но Чернобыль все же остановил развитие канальных реакторов, РБМК, тех, что часто называют «реакторы чернобыльского типа». Притом что они, видимо, более эффективные, чем водо-водяные, которые сейчас у нас разрабатываются.
— Я имел честь сопредседательствовать в международной комиссии, которая оценивала углубленный анализ безопасности первого энергоблока Курской АЭС. Это вообще первое поколение РБМК. Комиссия трудилась два с половиной года. Кончилось дело тем, что не нашли никаких оснований для закрытия таких блоков раньше времени. Но в них есть эти неприятные особенности: отсутствие оболочки, подверженность пожарам. Поэтому хоть РБМК и много, и они хорошо работают после Чернобыля, но есть решение, что это направление мы развивать не будем.
— Но это экспертная оценка, а есть мнение народа. Сейчас даже в России, где к атомным станциям привыкли, где есть активный пиар в поддержку АЭС и население спокойно относится к мирному атому, по ряду опросов, до половины населения не исключает тяжелых аварий в атомной энергетике. Другие страны тоже подвержены атомным фобиям. Вы понимаете, как выходить из этой дилеммы?
— Я это не просто понимаю, я этим двадцать с лишним лет занимаюсь. Еще зимой 1989 года только что созданный после Чернобыля в Академии наук ИБРАЭ проводил государственную экологическую экспертизу по вопросу достройки Ростовской АЭС. Серьезно подошли к этому делу и в Ростове, и в Москве, но провалились с треском. «Зеленые» активисты сделали нас просто с потрохами, и потом было очень стыдно, что мы такие умные, все понимаем, но ничего объяснить не можем, как собаки.
В демократической стране принимают всегда те решения, которые народ считает правильными. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому на ваш вопрос, что делать, могу ответить: только работать и работать. Обеспечивать максимальную безопасность, обосновывать ее и тратить время и силы на то, чтобы тому народу, который и принимает решения, долго и нудно объяснять, как обстоят дела. В «Росатоме» с приходом Сергея Кириенко отнеслись всерьез к тому, что нужно создавать информационные центры, развивать разные формы донесения информации до населения. Это относится и к правительству: оно отвечает в конечном итоге за энергообеспечение и благополучие населения. Встречаясь с премьером после Фукусимы, я видел, что у него понимание этого вопроса есть.
Один из уроков Фукусимы в том, что косвенный ущерб наносит даже не авария, а недостаток информации или искаженная информация. Когда были проведены расчеты в первый день после аварии, стало понятно, что по Дальнему Востоку все будет хорошо. Эта информация была немедленно донесена до МЧС, «Росатома», правительства. Доложили, что с радиацией все нормально, а паника обязательно будет, поэтому нужно как следует поработать информационно. Российская система после Фукусимы сработала очень неплохо. На Дальнем Востоке в 630 пунктах замерялась радиация на земле, в воде и в воздухе. Через 15 минут эта информация передавалась по громкой связи, с помощью бегущей строки, в интернете, в телевизоре. Но в первые дни народ там бросился покупать билеты на самолет «в Россию». В аптеках, как положено в этих случаях, очередь за йодом, весь йод раскуплен. Но после того как включилась эта машина по информированию населения, буквально через день-другой все спало. И это успех.
В Японии такого успеха явно не было. Но надо не забывать, что счет жертв землетрясения и цунами уже перевалил за 20 тыс., и правительство ведет работы по расчистке, по поиску заваленных трупов, все необходимые восстановительные процедуры. Можно и вспомнить о том, что счет погибших от аварии на АЭС — два-три. Тем не менее у нас землетрясение воспринимается как «ну бывают такие жуткие истории», а вот авария на атомной станции — это вселенская катастрофа. Это не случайно. Мы проводили измерения с помощью социологических опросов представлений населения об опасности радиации. Даже для высокообразованных групп опасность радиации завышена на три-четыре порядка. Есть и объективные, и субъективные объяснения того, почему наше отношение к радиации неадекватно. Это и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и холодная война, и непонятность самой радиации для людей.
— Но радиация действительно непонятна. С одной стороны, рассказывают о триллионах беккерелей или о микрорентгенах в час, о каких-то микрозивертах. С другой стороны, приходит человек и говорит, что, мол, спасайся кто может, тут все заражено.
— Мы обсуждали в МАГАТЭ вопрос о коммуникациях, он не менее важный, чем вопросы техники. Мы давно готовим и проводим массу учений, есть и опыт взаимодействия с людьми в подобных ситуациях, есть понимание, как надо разговаривать о них так, чтобы тебя поняли. И согласен с вами, что если нет возможности вести обстоятельный разговор, то нужно приводить сравнения и говорить на уровне «опасно», «неопасно», «почти не опасно» — без цифр и непонятных единиц тебя воспринимают легче.
Другое дело, когда есть время для долгого взаимодействия. Несколько лет назад меня пригласили на ликбез для высшего генералитета в Минобороны. Я там начал с азов: зиверт, миллизиверт, как все происходит, Чернобыль. После лекции ко мне подошли пять-шесть генералов, пожали руку, сказали: «Профессор, мы вам очень благодарны, мы сами в Чернобыле “воевали” и считали, что дни нашей жизни сочтены, вы в нас как-то вселили оптимизм». Все эти годы они жили с идеей, что они поражены радиацией.
— Есть ли у вас понимание долгосрочных выводов из аварий на ЧАЭС и на «Фукусиме-1»?
— Мне кажется очень важным, что мы смогли сразу после аварии на «Фукусиме-1» сказать, что на Дальнем Востоке радиации не будет. Мы 20 лет готовились к этому моменту, делали коды по тяжелым авариям, верифицировали их, обсчитывали наши и западные станции, анализировали выбросы и их распространение по атмосфере и по океану, какие от этого будут дозы радиации и как они влияют на здоровье.
Это делается в комплексе, у нас весь набор специалистов под одной крышей. В аварийном кризисном центре МАГАТЭ определяют источник выброса, затем отправляют в международную метеорологическую организацию, чтобы те подсчитали, как это распространяется, а потом в ВОЗ, чтобы те определили, какое будет воздействие. У нас, когда надо было, более 50 человек работали посменно в нашем кризисном центре, постоянно велась работа по расчетам и анализу результатов, по поиску информации. По три-четыре обстоятельных справки в день рассылали. И работали мы не в одиночку, а в тесном взаимодействии со специалистами «Росатома», МЧС, Гидромета, взаимодействии, отработанном годами совместной работы. С другой стороны, начиная с третьего дня после аварии были данные мониторинга территории Японии по радиации. Мы могли сравнивать свой расчет по распространению радиации по территории с этими данными в динамике. Поэтому, когда говорят про то, что выброс «Фукусимы-1» составил 10% от чернобыльского, мы считаем это переоценкой.
— А ваша оценка?
— То, что легло на Японию,— это примерно процент от Чернобыля.
— Но там же еще что-то осталось в корпусе энергоблока, что-то в океан ушло.
— Вот то, что осталось внутри станции,— это подробности биографии самой станции. Важно то, что упало за пределы АЭС и как это повлияло на здоровье людей. А там, в океане, ни на кого это не повлияло. Еще хочу сказать особо: важно, чтобы при сложной аварийной ситуации в Японии ли или у нас, на атомной станции, или на ГЭС, или на большом химическом заводе можно было опереться при принятии решений на экспертный потенциал людей, хорошо взаимодействующих друг с другом и охватывающих всю проблему. И тогда можно в реальном масштабе времени провести анализ, выдать рекомендации и за них отвечать головой. Это государственная задача.
— Американцы после аварии на Three Mile Island делали свои отчеты по безопасности и выводы, но не создали аналогичную систему?
— Они продвинулись очень далеко: их система регулирования очень жесткая. Но я сейчас говорю про экспертный потенциал. Должен быть государственный центр, который занимается комплексной безопасностью опасных технологий с разных сторон. И если нужно анализировать, например, ситуацию на электростанции или в распределительных сетях (такую, как случилась в Подмосковье этой зимой после ледяного дождя), то нужно к этому готовиться не в момент аварии, а загодя. Тогда ты точно будешь знать, как и чем помочь в той или иной ситуации той или иной отрасли, компании. Можешь посоветовать, как подготовиться к этой ситуации. Конечно, для этого нужно и создавать модели, и изучать историю, накапливать базы данных, но нужна и обратная связь через регулирующие документы, обязывающие эту безопасность обеспечивать.
— Вы предлагаете сделать дополнительный регулятор вроде Ростехнадзора?
— Ни в коем случае, в западной системе есть такое понятие: «техническая поддерживающая организация». Она не регулирует, но обеспечивает регулирование: оно происходит на основании большой работы, расчетов, анализов, мониторинга. Одновременно результаты этой работы доводятся до промышленности и могут быть использованы ею для развития.
— Значит, это государственный научный центр по всем возможным авариям в промышленности и энергетике. Имеет ли смысл такая большая структура? ИБРАЭ эффективно занимается экспертной оценкой ядерной энергетики, почему такие же структуры не создать в других отраслях?
— Ни в энергетике, ни в химии ничего подобного нет. Так получилось, что атомная отрасль здесь впереди. И если где-то уже есть потенциал, то зачем такой же потенциал создавать в другой отрасли? Его надо использовать, надо в правильном направлении задействовать тех людей, у которых есть знания и умения, наладить взаимодействие с экспертами по конкретным технологиям, но для этого нужны ресурсы. Они и есть камень преткновения.
— У вас есть оценка средств, которые потребуются на такую экспертную структуру? Сколько, например, ИБРАЭ потратил на исследования после того, как вы создали вашу систему? Какие средства потребуются от государства?
— Сейчас в нашем бюджете собственно государственные затраты — 8%. А все остальное — коммерческие контракты. Если смотреть на объем работ института в этом направлении за все время его существования, то это примерно $200 млн. Но здесь есть два обстоятельства. Во-первых, если делаешь что-то во второй раз, даже в другой области, то это дешевле. Во-вторых, почему, собственно, государство должно за все платить? Можно создать условия, когда собственники предприятий были бы заинтересованы в покупке этих услуг.
— Получается дополнительный налог на безопасность бизнеса.
— Скорее условие существования. А это задача государства — обеспечивать безопасность своих граждан. Поэтому дорогу для бизнеса можно открывать только тогда, когда он безопасен, когда он не создает угрозу для граждан. Если все сделать правильно, то и бизнес будет в этом заинтересован.
Интервью взял Владимир Дзагуто
Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ